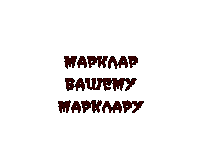ПОТЕБНЯ А.А. МЫСЛЬ И ЯЗЫК 1 (ИЗВЛЕЧЕНИЯ) // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть I. – М., 1960. С. 136-142.
Сближение языкознания с психологией, при котором стала возможна мысль искать решения вопросов о языке в психологии и, наоборот, ожидать от исследований языка новых открытий в области психологии, возбуждая новые надежды, в то же время свидетельствует, что каждая из этих наук порознь уже достигла значительного развития. Прежде чем языкознание стало нуждаться в помощи психологии, оно должно было выработать мысль, что и язык имеет свою историю и что изучение его должно быть сравнением его настоящего с прошедшим, что такое сравнение, начатое внутри одного языка, вовлекает в свой круг все остальные языки, т. е. что историческое языкознание нераздельно со сравнительным. Мысль о сравнении всех языков есть для языкознания такое же великое открытие, как идея человечества для истории. И то и другое основано на несомненной, хотя многими не сознаваемой, истине, что начала, развиваемые жизнью отдельных языков и народов, различны и незаменимы одно другим, но указывают на другие и требуют со стороны их дополнения. В противном случае, т. е. если бы языки были повторением одного и того же в другой форме, сравнение их не имело бы смысла точно так, как история была бы одной огромной, утомительной тавтологией, если бы народности твердили зады, не внося новых начал в жизнь человечества. Говорят обыкновенно об исторической и сравнительной методе языкознания; это столько же методы, пути исследования, сколько и основные истины науки. Сравнительное и историческое исследование само по себе было протестом против общей логической грамматики. Когда оно подрыло ее основы и собрало значительный запас частных законов языка, тогда только стало невозможно примирить новые фактические данные со старой теорией: вино новое потребовало мехов новых. На рубеже двух направлений науки стоит Гумбольдт — гениальный предвозвестник новой теории языка, не вполне освободившийся от оков старой. Штейнталь первый, как кажется, показал в Гумбольдте эту борьбу теории и практики или, вернее сказать, двух противоположных теорий, а вместе и то, на которую сторону должна склониться победа по суду нашего времени.
С другой стороны, психология не могла бы внушить никаких ожиданий филологу, если бы до сих пор оставалась описательной наукой. Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть только ряд преобразований, вызываемых первоначальными данными, по мере того как замечаются в них несообразности. Так и первые психологические теории примыкают к житейскому взгляду на душу, Самонаблюдение дает нам массу психологических фактов, которые обобщаются уже людьми, по умственному развитию не превышающими уровня языка...
____
...Оставивши в стороне нечленораздельные звуки, подобные крикам боли, ярости, ужаса, вынуждаемые у человека сильными потрясениями, подавляющими деятельность мысли, мы можем в членораздельных звуках, рассматриваемых по отношению не к общему характеру человеческой чувственности, а к отдельным душевным явлениям, с которыми каждый из этих звуков находится в ближайшей связи, различить две группы: к первой из этих групп относятся междометия, непосредственные обнаружения относительно спокойных чу вств в чл енораздельных звуках; ко второй — слова в собственном смысле. Чтобы показать, в чем состоит различие слов и междометий, которых мы не называем словами и тем самым не причисляем к языку, мы считаем нужным обратить внимание на следующее.
Известно, что в нашей речи тон играет очень важную роль и нередко изменяет ее смысл. Слово действительно существует только тогда, когда произносится, а произноситься оно должно непременно известным тоном, который уловить и назвать иногда нет возможности; однако хотя с этой точки без тона нет значения, но не только от него зависит понятность слова, а вместе и от членораздельности. Слово вы я могу произнести тоном вопроса, радостного удивления, гневного укора и проч., но во всяком случае оно останется местоимением второго лица множественного числа; мысль, связанная со звуками вы, сопровождается чувством, которое выражается в тоне, но не исчерпывается им и есть нечто от него отличное. Можно сказать даже, что в слове членораздельность перевешивает тон; глухонемыми она воспринимается посредством зрения и, следовательно, может совсем отделиться от звука.
Совсем наоборот в междометии: оно членораздельно, но это его свойство постоянно представляется нам чем-то второстепенным.. Отнимем у междометий о ! а ! и проч. тон, указывающий на их отношение к чувству удивления, радости и др., и они лишатся всякого смысла, станут пустыми отвлечениями, известными точками в гамме гласных. Только тон дает нам возможность догадываться о чувстве, вызывающем восклицание у человека, чуждого нам по языку. По тону язык междометий, подобно мимике, без которой междометие, в отличие от слова, во многих случаях вовсе не может обойтись, есть единственный язык, понятный всем.
С этим связано другое, более внутреннее отличие междометия от слова... мысль, с которой когда-то было связано слово, снова вызывается в сознание звуками этого слова, так что, например, всякий раз, как я услышу имя известного мне лица, мне представляется снова более или менее ясно и полно образ того самого лица, которое я прежде видал, или же известное видоизменение, сокращение этого образа. Эта мысль воспроизводится если не совсем в прежнем виде, то так, однако, что второе, третье воспроизведение могут быть для нас даже важнее первого. Обыкновенно человек вовсе не видит разницы между значением, какое он соединял
с известным словом вчера и какое соединяет сегодня, и только воспоминание состояний , далеких от него по времени, может ему доказать, что смысл слова для него меняется. Хотя имя моего знакомого подействует на меня иначе теперь, когда уже давно его не
вижу, чем действовало прежде, когда еще свежо было воспоминание о нем, но тем не менее в значении этого имени для меня всегда остается нечто одинаковое. Так и в разговоре: каждый понимает слово по-своему, но внешняя форма слова проникнута объективной мыслью, независимой от понимания отдельных лиц. Только это дает слову возможность передаваться из рода в род; оно получает новые значения только потому, что имело прежние. Наследственность слова есть только другая сторона его способности иметь объективное значение для одного и того же лица. Междометие не имеет этого свойства. Чувство, составляющее все его содержание, не воспроизводится так, как мысль. Мы убеждены, что события, о которых теперь напомнит нам слово школа, тождественны с теми, которые были и прежде предметом нашей мысли; но мы легко заметим, что воспоминание о наших детских печалях может нам быть приятно и, наоборот, мысль о беззаботном нашем детстве может возбуждать скорбное чувство; что вообще воспоминание о предметах, внушавших нам прежде такое-то чувство, вызывает не это самое чувство, а только бледную тень прежнего или, лучше сказать, совсем другое...
____
...Говоря о том, как звук получает значение, мы оставляли в тени важную особенность слова сравнительно с междометием, особенность, которая рождается вместе с пониманием, именно так называемую внутреннюю форму. Нетрудно вывести из разбора слов какого бы ни было языка, что слово, собственно, выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово стол значит только простланное (корень стл тот же, что в глаголе стлать), и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы, независимо от их формы, величины, материала. Под словом окно мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом око, оно значит: то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и проч., но даже на понятие отверстия, В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков может быть множество. Первое есть знак, символ, заменяющий для нас второе. Можно убедиться на опыте, что произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения: облако, положим, для нас только «покрывающее». Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если исключить второе, субъективное и, как увидим сейчас, единственное содержание, то в слове останется только звук, т.е. внешняя форма, и этимологическое значение, которое тоже есть форма, но только внутренняя. Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово, совершенно согласно с требованиями языка, может обозначать предметы разнородные. Так, мысль о туче представлялась народу под формой одного из своих признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает ее из себя, откуда слово туча (корень ту — пить и лить). Поэтому польский язык имел возможность тем же словом tecza (где тот же корень, только с усилением) назвать радугу, которая, по народному представлению, вбирает в себя воду из криницы. Приблизительно так обозначена радуга и в слове радуга (корень дуг —доить, т. е. пить и напоять , тот же, что в слове дождь); но в украинском слове веселка она названа светящейся (корень вас — светить, откуда весна и веселый), а еще несколько иначе в украинском же красна пан i .
В ряду слов того же корня, последовательно вытекающих одно из другого, всякое предшествующее может быть названо внутренней формой последующего...
____
...Отношения понятия к слову сводятся к следующему: слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое; характеризующая понятие «ясность» (раздельность признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе — все это первоначально достигается в слове и преобразуется им так, как рука преобразует всевозможные машины. С этой стороны слово сходно с понятием, но здесь же видно и различие того и другого.
Понятие, рассматриваемое психологически, т. е. не с одной только стороны своего содержания, как в логике, но и со стороны формы своего появления в действительности — одним словом, как деятельность, есть известное количество суждений, следовательно, не один акт мысли, а целый ряд их. Логическое понятие, т. е. одновременная совокупность признаков, отличенная от агрегата признаков в образе, есть фикция, впрочем, совершенно необходимая для науки. Несмотря на свою длительность, психологическое понятие имеет внутреннее единство. В некотором смысле оно заимствует это единство от чувственного образа, потому что, конечно, если бы, например, образ дерева не отделился от всего постороннего, которое воспринималось вместе с ним, то и разложение его на суждения с общим субъектом было бы невозможно; но как о единстве образа мы знаем только через представление и слово, так и ряд суждений о предмете связывается для нас тем же словом. Слово может, следовательно, одинаково выражать и чувственный образ и понятие. Впрочем, человек, некоторое время пользовавшийся словом, разве только в очень редких случаях будет разуметь под ним чувственный образ, обыкновенно же думает при нем ряд отношений; легко представить себе, что слово солнце может возбуждать одно только воспоминание о светлом солнечном круге; но не только астронома, а и ребенка или дикаря оно заставляет мыслить ряд сравнений солнца с другими приметами, т. е. понятие, более или менее совершенное, смотря по развитию мыслящего; например, Солнце меньше (или же многим больше) Земли; оно колесо (или имеет сферическую форму); оно благодетельное или опасное для человека божество (или безжизненная материя, вполне подчиненная механическим законам) и т. д. Мысль наша но содержанию есть или образ, или понятие; третьего, среднего между тем и другим, нет; но на пояснении слова понятием или образом мы останавливаемся только тогда, когда особенно им заинтересованы, обыкновенно же ограничиваемся одним только словом... Отсюда ясно отношение слова к понятию. Слово, будучи средством развития мысли, изменения образа в понятие, само не составляет ее содержания. Если помнится центральный признак образа, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет значение не сам по себе, а как знак, символ известного содержания; если вместе с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за коренные , то слово становится чистым указанием на мысль, между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего. Представлять — значит, следовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти ничего из этих рядов в сознание. С этой стороны, значение слова для душевной жизни может быть сравнено с важностью буквенного обозначения численных величин в математике или со значением различных средств, заменяющих непосредственно ценные предметы (например, денег, векселей для торговли). Если сравнить создание мысли с приготовлением ткани, то слово будет ткацкий челнок, разом проводящий уток в ряд нитей основы и заменяющий медленное плетение. Поэтому несправедливо было бы упрекать язык в том, что он замедляет течение нашей мысли. Нет сомнения, что те действия нашей мысли, которые в мгновение своего совершения не нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро. В обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например при неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ, человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое. Но язык не отнимает у человека этой способности, а напротив, если не дает, то по крайней мере усиливает ее. То, что называют житейским, научным, литературным тактом, очевидно, предполагает мысль о жизни, науке, литературе, — мысль, которая не могла бы существовать без слова. Если бы человеку доступна была только бессловесная быстрота решения и если бы слово, как условие совершенствования, было нераздельно с медленностью мысли, то все же эту медленность следовало бы предпочесть быстроте. Но слово, раздробляя одновременные акты души на последовательные ряды актов, в то же время служит опорою врожденного человеку устремления обнять многое одним нераздельным порывом мысли. Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот стройный мир, за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим; только забывая это, можно жаловаться, что именно язык мешает нам продолжать творение. Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению, и говорить о несовершенствах и вреде языка вообще было бы уместно только в таком случае, если бы мы могли принять за достояние человека недосягаемую цель его стремлений, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и непосредственность чувственных восприятий с совершенной одновременностью и отличностью мысли...
____
...Показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе, есть основная задача истории языка; в общих чертах мы верно поймем значение этого участия, если приняли основное положение, что язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность. Чтобы уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это привести в связь с другими словами. Для понимания своей и внешней природы вовсе не безразлично, как представляется нам эта природа, посредством каких именно сравнений стали ощутительны для ума отдельные ее стихи, насколько истинны для нас сами эти сравнения — одним словом, не безразличны для мысли первоначальное свойство и степень забвения внутренней формы слова. Наука в своем теперешнем виде не могла бы существовать, если бы, например, оставившие ясный след в языке сравнения душевных движений с огнем, водой, воздухом, всего человека с растением и т. д. не получили для нас смысла только риторических украшений или не забылись совсем; но тем не менее она развилась из мифов, образованных посредством слова. Самый миф сходен с наукой в том, что и он произведен стремлением к объективному познанию мира.
Чувственный образ, исходная форма мысли, вместе и субъективен, потому что есть результат нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних возбуждениях и проецируется душою. Отделять эту последнюю сторону от той, которая не дается человеку внешними влияниями и, следовательно, принадлежит ему самому, можно только посредством слова. Речь нераздельна с пониманием, и говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему.
Примечания